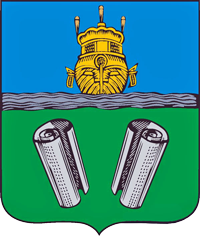
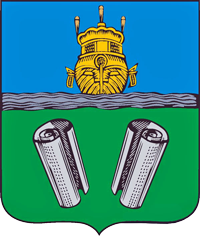
28. Вместо храма – камера смертников.
Бесспорно, одно из лучших произведений Бориса Михайловича Кустодиева – «Портрет искусствоведа и реставратора А.И. Анисимова», исполненный в 1915 году и ныне находящихся в Русском Музее. Изображен человек незаурядный, яркий, значительный, нравственно и духовно возвышенный. Таким его знал Борис Михайлович и любил, таким оставил на холсте. Кустодиев и Анисимов были очень дружны. Часто встречались в Петербурге. Александр Иванович посещал «Теремок» художника в Семеновском-Лапотном. Борис Михайлович, зная страсть своего уважаемого гостя к древнерусским памятниками архитектуры и живописи, проезжался с ним в Кострому, Кинешму, Плес… Меж ними велась активная переписка.
Александр Иванович Анисимов знаменателен не только своей дружбой с Кустодиевым, не только блистательными и одухотворенным портретом его кисти, но прежде всего своими выдающимися заслугами в отечественной культуре и искусстве. Добрым и благодарным словом его нужно вспомнить и кинешемцам. Ну, об этом несколько позже.
Александр Иванович Анисимов родился в 1877 году в Петербурге. Закончил историко-филологический факультет Московского университета. Затем много лет работает в Новгороде, занимается изучением и реставрацией памятников архитектуры и живописи. Публикует первые свои статьи, которые сразу же были замечены в научных кругах и высоко оценены. Тогда он начинает собирать старые иконы, и эта его коллекция становится одной из значительных в России, прекрасно подобранной и тщательно исследованной. Кстати, в одном из писем Анисимова к Кустодиеву встречается упоминание о его даре Борису Михайловичу – ценной старинной иконы.
В 1918 году Игорь Эммануилович Грабарь приглашает Анисимова в качестве сотрудника им организованного Музейного отдела Неркомпроса и руководителя Комиссии по изучению и реставрации памятников архитектуры и живописи Московского Кремля. Александр Иванович сразу показал себя знающим, энергичным и талантливым специалистом. Когда Грабарь устраивал Первую Волжскую экспедицию, о которой я уже писал, то своим заместителем и ведущим специалистом назначил Анисимова.
Но вместо древних храмов городов Средней Волги Александр Иванович был арестован и попадает в камеру смертников, подлежащих расстрелу, как злейший враг Советской власти. Как это все произошло?
За несколько дней до отъезда в Волжскую экспедицию Анисимов побывал в Петергофе, где провел юношеские годы. Кто-то из местной ЧК решил свести с ним давние счеты, – он был обвинен в связях с кадетами и отправлен в Кронштадскую крепость в камеру смертников. Его жизнь висела на волоске, в любую ночь его могли расстрелять.
Не буду рассказывать о сложнейших драматических обстоятельствах, предпринятых руководством Народного Комиссариата Просвещения А.В. Луначарским и заведующей Музейным отделом Н.И. Троцкой по спасению Александра Анисимова. Петроградская ЧК очень не хотели выпускать Анисимова из своих лап. А здесь еще сказались личные и межведомственные отношения между московскими и петроградскими партийными руководителями, и «дело Анисимова» переросло в амбициозный государственный конфликт. Лишь вмешательство секретаря ЦК большевистской партии Е.Д. Стасовой помогло освобождению Александра Анисимова.
Он возвращается в Москву и, понимая сколь хрупка человеческая жизнь, делает самое неотложное, давно задуманное. 13 августа 1919 года сообщает Борису Михайловичу Кустодиеву: «Доставили ли Вам «Преображение» из моего собрания и любуетесь ли Вы им, по душе ли оно Вам. Я лично очень люблю эту икону и высоко ее ставлю – в своем роде она у меня единственная». Уже через несколько дней, 4 сентября добавляет: «Я написал Вас снова, чтобы Вы получили икону, но не одну, а две…»
Где теперь находятся иконы, подаренные Анисимовым Борису Михайловичу, я не выяснил.
Александр Иванович, словно нагоняя время, проведенное в камере смертников, с головой окунулся в работу. Пишет Кустодиеву: «Иконы, расчищенные в Кремле, одна другой интереснее и превосходнее – ходишь о вещи к вещи и не можешь насмотреться…»
Среди этих расчищенных под руководством Анисимова и им исследованных произведений древнерусского искусства – великая «Владимирская Богоматерь». Быть может, главный реставрационный и научный труд Александра Ивановича, которым он занимался более десяти лет. Эта работа стала творческой вершиной Анисимова, она вознесла его до величайших откровений отечественной и мировой научной мысли, но она стала и трагедией его жизни.
Александр Анисимов сделал немало замечательных научных открытий. Среди известных – исследования и реставрация Александра Анисимова фресок Андрея Рублева и Даниила Черного в Успенском соборе Московского Кремля. Поистине выдающейся была его работа по изучению и руководству реставрацией гениальным произведением Андрея Рублева – иконой «Троица» и в Троице-Сергиевой Лавре, о чем он сообщает Борису Михайловичу Кустодиеву. Александр Иванович участвует в спасении иконы «Дмитрий Солунский» XII века из Успенского собора подмосковного города Дмитрова. Занимается изучением древних икон Государственного Исторического музея, в котором ко всем своим другим обязанностям он руководит еще реставрационной мастерской.
Его трудоспособность была поразительной. Он едет в Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри, быть может, впервые внимательно осматривает фрески великого Дионисия. Исследует архитектурные и живописные памятники Новгорода, Пскова, Вологды, Рязани, Старой Ладоги, Великого Устюга, Солнечногорска, Костромы и… Кинешмы. Но каких-либо подробностей пребывания Анисимова в Кинешме я не нашел. Думаю, что оно было весьма плодотворным, эффективным, полезным. Он хорошо знал памятники архитектуры и живописи города. Ведь через его руки прошли иконы кинешемских храмов, выведенных еще Первой Волжской экспедицией, о чем рассказывал Николай Николаевич Померанцев, который, к слову, был дружен с Анисимовым.
Возможно, и в это свое посещение Кинешмы Александр Иванович взял с собой в Москву для реставрации и исследования наиболее ценные иконы из кинешемских храмов.
В начале двадцатых годов Анисимов часто приезжал на Волгу, в Ярославль. Он руководил реставрационными работами архитектурных памятников города, поврежденных во время левоэсеровского мятежа и обстрела позиций восставших артиллерией. Александр Иванович являлся профессором Ярослаского университета и прочитал в нем большой курс леккций, о чем подробно сообщает в письмах Кустодиеву.
Сообщает ему и о том, что занимается в Ярославле реставрацией икон не только из ярославских храмов, но и привезенных сюда из других приволжских городов. Быть может, из Костромы и Кинешмы.
Анисимову работать, спасать памятники архитектуры и живописи приходилось все труднее и труднее. На его глазах разрушали древнейшие храмы, сбивались настенные росписи, уничтожались иконы. Его страстные обращения в советские и партийные органы в лучше случае оставались без ответа. Но чаще всего он наталкивался на грозные обвинения в защите чуждый и вредных советской культуре образцов «буржуазных и религиозных предрассудков». Его статьи не печатались, он подвергался резким нападкам в печати. Над его головой сгущались зловещие тучи. Он был на прицеле НКВД, ждали только повод. И он быстро нашелся.
В 1928 году Александр Иванович публикует книгу «История иконы «Владимирская Богоматерь» в свете реставрации». В этом же году она переиздается в Праге на специальных «Конаковских чтениях» на русском и английском языках. Работа Александра Анисимова имели огромный успех, она получила европейскую известность, о ней говорили, ее цитировали, на нее ссылались. Это стало «звездным часом» всей научной карьеры Анисимова. Максимиллиан Волошин прислал из Коктебеля стихотворение, написанное по сему случаю с такой надписью: «Дорогому Александру Ивановичу Анисимову, открывшему мне чудо Владимирской Богоматери – с чувством любви и благодарности».
Правда, это резко антисоветское, антикоммунистическое стихотворение, попади онов «чужие руки», могло бы стоить поэту головы. Оно было обнародовано лишь в конце 1980 годов.
В нашей же стране на Анисимова обрушился в печати и даже в научных кругах град злобной критики, обвинений в связях с белой эмиграцией, даже в шпионаже.
В сентябре 1929 года Александра Ивановича арестовали и отправили в «спецлагерь» на Соловки. И дальше его следы затерялись. О его судьбе ходили разные слухи, домысли и легенды. О нем вспоминает академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, который встретил его на Соловках.
В конце 1980 годов газета «Советская Культура», в которой я работал, послала официальный запрос в Прокуратуру СССР с просьбой сообщить о судьбе Александра Ивановича Анисимова. Получили также же официальный ответ. «22 августа 1937 года Тройка НКВД Карельской АССР определила Анисимову А.И. высшую меру наказания – расстрел. Решение указанной Тройки было приведено в исполнение 2 сентября 1937 года. 16 января 1989 года А.И. Анисимов был полностью реабилитирован посмертно».
…Коллекция работ древнерусской живописи, принадлежавшая Анисимову, сохранилась. После ареста Александра Ивановича – она более 30 икон – была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Несколько икон попали в собрание Павла Дмитриевича Корина, с которым Александр Иванович был хорошо знаком.
29. Находка в семейной архиве.
Когда готовился сборник «Художник Петр Иванович Петровичев. 1874–1947. Собрание материалов, каталог выставки», то члены авторского коллектива во главе с В.П. Лапшиным прежде всего засели за разбор и изучение семейного архива. Здесь их ожидало много интересных, неожиданных находок и открытий.
– Владимир Павлович, – обратилась к Лапшину одна из его сотрудниц, – посмотрите, какие прекрасные рисунки!
– Да, очень важная находка. Они подписаны самим художником «Кинешма» и «На Кинешме», им же датированы «1907 год»…
Но прежде, чем рассказать об этой, действительно, незаурядной находке, – немного о самом художнике.
Без творчества выдающегося русского живописца Петра Ивановича Петровичева теперь уже нельзя представить историю отечественной живописи конца XIX начала XX веков (20-30-х годов). Любимый ученик Левитана в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества, передвижник, член Объединения «Мир Исксства» и Союза русских художников, он обладал оригинальной, самобытной живописной манерой, весьма отличной от почерка Левитана, его сподвижников и товарищей, манерой напряженной, внутренне сдержанной, энергичной, сильной.
Петра Ивановича еще при жизни называли классиком. Работа в национальных русских живописных традициях, Петровичев сотворил только ему присущие образы древнерусских городов – Ростова-Ярославского, Костромы, Новгорода, Ярославля, Владимира, «чистый» пейзаж и сцены из крестьянского быта, удивительные по красочности интерьеры дворцовых и музейных залов, дивные «розы» и натюрморты. Наконец, он создал неповторимую волжскую галерею, в которой отразилось наше время, время перелома веков.
Но, как это часто бывает в русском искусстве, Петра Ивановича Петровичева «открыли» лишь в 1970–1980 годах. Лучше его произведения украшают залы Третьяковской галереи, Русского Музея, крупнейших музеев России и сопредельных государств. О художнике пишут статьи, издают книги, монографии и альбомы. Его международных профессиональный и коммерческий «рейтинг» быстро вырос и достиг популярности Саврасова и Левитана. В его искусстве даже стали находить какие-то «предтечи» русского авангарда. К художнику пришла подлинная известность и признание. Но тем не менее о жизни и творчестве Петра Ивановича Петровичева мы знаем очень мало. Подчас новый факт его биографии становится истинным открытием.
Теперь о рисунках Петровичева, обнаруженных в его архиве и ранее совершенно неизвестных исследователям. Они относятся к одному из самых плодотворных периодов в творчестве художника, в создании его волжской серии. Они позволили полнее и разнообразнее судить о графическом даровании Петра Ивановича. Поэтому один из рисунков – «Кинешма» был опубликован в указанной книге, которая вышла в 1988 году.
Посмотрите, как просто, легко, непринужденно он исполнен! С каким острым вниманием к натурному материалу, к каждой детали, к каждому изображению! Это не набросок, это вполне в его волжской галерее. Они позволили полнее представить его графическое дарование. Как совершенно они исполнены! Но это не просто натурные законченные графические произведения, добросовестно исполненные. Особенно – «Кинешма»: причал, дебаркадер, баржи, парусные шхуны, ложки, абрисы складов и пристанских зданий. Здесь проявилась основная черта работы художника – серьезность, основательность, устойчивость и настойчивость, даже в исполнении этого, казалось бы, репортажного наброска.
Рисунки выявили и новый волжский адрес в творчестве Петра Петровича – Кинешму. Наравне с Костромой, Ярославлем, другими большими и малыми приволжскими городами, расширяя таким образом географический диапазон творческих привязанностей художника, конкретные его «привязки» в волжской галерее.
Начало ее относится к 1902–1903 годам с этюда «На Волге». Впервые он был показал на юбилейной XXV выставке работ учащихся и выпускников Московского Училища живописи, ваяния и зодчества, затем в Петербурге на выставке журнала «Мир искусства». Пресса и критика отнеслась благожелательно к работам молодого многообежающего живописца, в частности и к этюду «На волге». Замечены были и картины «Вечер на Волге» и «На Волге», исполненные в 1911 году.
Настоящим триумфом для художника стала картина «Ледоход на Волге», исполненная в 1912 году и приобретенная Советом Третьяковской галереи у самого автора. Кстати, теперь в Третьяковке находится несколько работ художника.
«Она притягивала какой-то необычайной правдой, – пишет о ней Народный художник СССР, действительный член Российской Академии художеств, Лауреат Государственных премий России Ефрем Ивановича Зверьков. – Все, что передал в картине художник, было удивительно похоже на увиденное и пережитое мною самим. Бывало еще мальчишкой, нетерпеливо, боясь попустить, ждал я момента, когда «проснется» Волга, освободится от зимних оков. Помню, как река вздувалась, и ледяные глыбы с треском и шумом громоздились друг на друга, начинали неукротимое движение, сметающее все на своем пути. Воздух, наполненных испарениями весны, чист и прозрачен, оттого дали кажутся поразительно ясными. Все так напоминало былое, поэтому я не задумывался. Где писалась картина, я в ту пору убежденно воспринимал – на другом берегу родной мне Твери».
Возможно эта была Кострома, Ярославль или Кинешма. А точнее – обобщенный образ нескольких волжских городов.
В 1914 году Петр Иванович совершил еще одну поездку по Волге от Костромы до Плеса, а, быть может, и дальше вниз по реке. Написал картины «Кострома» и «Провинция. Плес на Волге». Остановился и в Кинешме. Вероятно, отобразил ее в каких-нибудь, ныне безымянных холстах. Или вложил свои кинешемские впечатления в другие волжские работы. Быть может, в такие прекрасные картины, как «Пристань на Волге» или «Переправа на Волге», исполненные в начале 1920 годов. Или же в созданный в это же время обобщенный образ «Пристани», в который вошли не только натурные наблюдения, но и эмоциональные, духовно-нравственные и иные впечатления от пристаней в Костроме, Ярославе, Плесе, Кинешме и других больших и малых городов на Волге. Этюд одной их картин «Пристани» находится в Третьяковской галерее. Даже по нему видно, насколько разновременные свои видения художник вкладывает в поиск обобщенного образа волжской пристани, волжского города.
Сколько радости, душевного восторга, восхищения и трепета доставляют нам эти и другие произведения Петра Ивановича Петровичева! «Какой тихий восторг перед их красотой ощущаешь в его картинах, – пишет известный историк искусства и художественный критик Н.Г. Машковцев, – восторг не меньший, чем перед красотой природы. Кусок пейзажа, включенный в архитектуру, он умеет изобразить во всей его органической цельности. Он достигал этой цельности не столько композицией, сколько колоритом, в оркестровке которого существенную роль играет и цвет».
Восторженным знатоком и поклонником искусства Петра Ивановича Петровичева является упомянутый мною Ефрем Иванович Зверьков. Я позволю привести несколько фрагментов из его замечательной статьи: «В своем творчестве Петр Иванович неуклонно, без колебаний шел своим избранным путем, полностью выкладываясь в то, в чем был искренне убежден. Завидным свойством характера мастера была его способность сосредоточиться на единой цели жизни: природа и он. Жизнь всей семьи была полностью подчинена его творческим устремлениям. Добрейший Петр Иванович обладал, видимо, колоссальной силой воли, реализация которой позволяла ему непрерывно жить в каком-то доступном только ему мире единения с природой…
Именно близко вглядываясь в его работы, не спеша, сознаешь неповторимую ценность его искусства – чрезвычайную завораживающую культуру его живописи. Живопись петровичева подобно живому роднику. Общение с ней, я убежден, делает людей духовно богаче, добрее и чище. В ней, как в зеркале, отражена скромность и возвышенность души художника… Своеобразие техники исполнения проявилось у него еще в ученических работах. Петр Иванович был неустанен в поисках средств выразительности, при этом формальная сторона творческого процесса никогда не представляла для него самоцель. Сила же впечатлений от его работ обычно вызывала у зрителей многочисленные вопросы: «А как это сделано?» В подобных случаях он отвечал коротко: «Я не могу на это ответить. Это надо прочувствовать…» Петр Ивановича Петровичев создал свой вариант живописной песни о природе. Она протяжная и раздольная, но не грустна, а всегда жизнеутверждающая. В ней – и раздумья, и обобщение, и радость, и любование. Произведения Петра Ивановича Петровичева о родной природе существенно дополнило картину русского пейзажа в мировой живописи».
И в этой картине мирового искусства скромное свое место заняли и рисунки, посвященные Кинешме.
30. Верить – мой вечный удел!
Живописец. График. Книжный иллюстратор. Театрально-декорационный художник. Поэт. Леонид Михайлович Чернов-Плесский был блистательно-любвеобильным человеком. Его творческой биографии, его разносторонних талантов хватилось бы на несколько человек. И на несколько городов. Но досталось в основном – Кинешме. Если б только художник жил здесь и работал, то уже можно было бы утверждать, что городу повезло.
Повезло и Леониду Чернову-Плесскому, ибо Кинешма способствовала раскрытию яркого, светлого, доброго дарования, его веры в свое предназначение, в свой удел «любовно любовью весь мир обнять». Но мир оказался жестоким, несправедливым, и вера художника «в светлое будущее» обернулась для него трагедией. Но это произойдет много позже, а пока, с самого раннего детства жизнь, казалось бы, улыбалась будущему художнику, и первые его шаги по ней были многообещающими и многозначными.
Леонид Михайлович Чернов-Плесский родился 16 августа 1883 году в небольшом приволжском городе Плесе, тогда Костромской (позже – Иваново-Вознесенской) губернии в мещанской семье среднего достатка. В начале 1890 годов его родители Михаил Матвеевич и Софья Петровна Черновы переехали в Кинешму. С тех пор его дальнейшая жизнь была связана с этим городом. Здесь он окончил с отличием школу. На одаренного мальчика, склонного к различным художествам, обратил внимание учитель рисования В.Н. Потехин, стал всячески ему покровительствовать. Он-то и убедил родителей Лени отдать его в Казанскую художественную школу, одну из лучших в России.
Леонид Чернов учился легко, играючи, поражая всех своими способностями. Его дипломная картина «Голубятники», исполненная с несомненным и вполне «взрослым» мастерством, получила высшие баллы. В 1905 году он был выпущен из художественной школы с «похвальным листом», дающим ему право без экзаменов поступить в Петербургскую Академию художеств. Еще девять лет с 1905 по 1915 годы, он проучился в Академии художеств. Его педагогами были легендарный П.П. Чистяков, «всеобщий учитель» по словам И.Е. Репина, и В.В. Савинский, которого Леонид Михайлович вспоминает с особой благодарностью.
Кстати, именно в Академии Леонид Чернов получил прибавление «Плесский» к своей фамилии. Не из-за каких-либо амбициозных соображений, а по чисто фамильному признаку. Оказывается, среди его сокурсников был еще один Чернов, поэтому, чтобы их различать, ему и повелели называться «Плесским», чем позже Леонид Михайлович очень гордился.
Его дипломной работой стала картина «Дедушкин конец», за которую он получил звание «классного художника». Она была кем-то приобретена прямо с академической выставки и нынешнее ее местонахождение неизвестно. Сохранилась лишь ее фотография. Судя по ней, «Дедушкин конец» был написан явно в передвижнических традициях, но весьма умело и грамотно.
После окончания в 1914 году Академии Леонид Чернов-Плесский еще 4 года оставался в Петрограде. Участвует на двух передвижнических выставках. На первой показывает картину «Ветер на Волге», написанную по кинешемским впечатлениям. На другой – сразу пять холстов: «С арбузами», «Вечер» (« кузницы»), «Полдень», «Утренний чай», «Покой и уют». Они не сохранились, поэтому говорить об их содержании и профессиональном уровне невозможно. Но, вероятно, они вполне отвечали передвижническим канонам, поскольку их охотно принимали на выставки Товарищества.
Леонид Михайлович явно освоился в Петрограде, полноправно вошел в его художественную жизнь. Похоже было, что он не рвался из столицы, столь для него многообещающей, в провинциальную Кинешму. Однако какие-то серьезные причины заставили его летом 1917 года приехать в город и поселиться у своих родителей в доме на Вичугской улице, здесь у его отца Михаила Матвеевича Чернова была пивная лавка. До недавнего времени этот дом был цел.
С тех пор Леонид Михайлович почти безвыездно живет в Кинешме, здесь им были созданы лучшие произведения. Здесь в полной мере раскрылся многообразный его талант, здесь он получил свое яркое, весьма индивидуальное, неповторимое «имя». И уже точнее и справедливее было бы называть его не «Плесским», а «Кинешемским». В 1920-1930 годы только Леониду Михайловичу принадлежит столь огромная, многотематическая и довольно подробная художественная панорама жизни и быта Кинешмы.
Прежде всего, в известных его картинах, как «Сенная площадь», «Кинешма». «По Волге», «С колхозной капустой», «Дворик», «На шпалах», «Окраины Кинешмы», «Пристань в Кинешме», «Базар», «У пристани», «Перевоз», «Индустриальный берег Волги», «У пристани на Волге». Уже сами названия его картин говорят о преимущественной их тематике – Кинешма во всем многообразии ее повседневного труда, ее рабочего люда. Особенно художника привлекала городская пристань с ее причалами, пароходами, баржами, рыбачьими лодками, всей пристанской суетой, многолюдством и посведневностью.
Художник любил свой город, с удовольствием изображал его внешний вид, его дома, площади, переулки, дворики, крыши, фабричные корпуса и фабричные крыши. Лушчей его картиной я считаю «Сенную площадь». По насыщенному серо-матово-серебристому цветовому строю, по образному осмыслению, по внутреннему, глубинному восприятию современной художнику действительности. Картина не только кинешемская, она передает обобщенный, христоматийный образ провинциального русского города перелома веков, когда над вековечными и, казалось бы незыблемыми устоями в напряженной, драматической живописи чувствуется веяние нового, во много разрушительного времени. «Сенную площадь» Леонида Чернова-Плесского я отнес бы к наиболее значительным произведениям отечественной живописи рубежа веков с явным ощущением русского авангарда.
Однако в некоторых особенно панорамных пейзажных композициях ощущается передвижническая повествовательность и неторопливость и уютность. Но относить художника к поздним передвижникам никак нельзя. Если в картинах его петроградского периода встречаются передвижнические бытовые сцены, некая злободневная повседневность, то в Кинешме они почти полностью исчезают.
Так же, как исчезает непременная передвижническая «привязка» к натурности, к обременительной предметности. В лучших картинах Леонида Михайловича все эти повседневные наблюдения обретают более обобщенный характер. Художник уже смело, свободно и умело оперирует цветом, прекрасно его чувствуя и применяя. В этом отношении он приближается к мастерам Союза русских художников. Кстати, его даже упоминают, как члены этого художественного объединения.
Но если в живописи Леонид Михайлович не достигает такого импрессионистского насыщенного цвета, как у лучших представителей Союза русских художников, как, например, Виноградов, Жуковский или Архипов, то в своей графике его творчество получает необычный размах, остроту и выразительность. В этой области Леонид Чернов-Плесский показал себя блистательным рисовальщиком.
Однако его рисунки были далеки от тех классических академических строгих и выверенных образцов, которые ему преподавал в Академии П.П. Чистяков. Как раз, напротив, они отличались лихостью, энергичной выразительностью, но при это были элегантны, подчас артистичны. При кажущейся репортажности, экскизности его работы были вполне завершенные, цельные и представляли полную сюжетную картину. Картину, свойственную его живописи – пристани, пароходы, баржи, лодки, виды Кинешмы, ярмарки, зарисовки людей, лошадей и всего окружающего предметного мира. Интересны его «Автопортреты» – на них Леонид Михайлович – молодой, с открытым лицом, внимательными, доброжелательными глазами. Никаких волнений, никаких сомнений, тревожности или драматических предчувствий. Он любит мир – мир любит его.
В полной мере его графически дар проявился в иллюстрациях к книгам Короленко, Глеба Успенского, Нефедова, Шошина, которые были изданы местным издательством «Основа». С ним художника связывали многолетние деловые и дружеские отношения. Здесь он оформляет, в том числе и графикой, сборник «Иваново-Вознесенская губерния», издает открытки с репродукциями своих картин, книгу своих стихотворений.
Значительной работой художника стали иллюстрации к сборнику посвященному творчеству драматурга А.Н. Островского, его горячо любимого и почитаемого. К нему он исполняет портрет драматурга, рисунок здания кинешемского театра. Чтобы собрать необходимый натурный материал Леонид Михайлович на несколько зимних месяцев едет в Зелыково, в усадьбу Островского, исполняет серию пейзажей…
Эта натурная работа весьма пригодилась художнику при исполнении декораций и костюмов к спектаклям по произведениям Островского, поставленных в кинешемском театре, с которым Чернов-Плесский сотрудничал 16 лет, с 1918 по 1934 годы. Наиболее значительной декорационно-театральной работой стало оформление спектакля «Снегурочка», премьера которой состоялась в 1923 году. Его декорации и костюмы имели большой успех и не сходили со сцены более 10 лет. Эти его эскизы были показаны в Москве на Всероссийской выставке, где соседствовали с театральными работами известных столичных художников. Он становится признанным мастером в этой области изобразительного искусства.
Надолго запомнились зрителям кинешемского театра декорации и костюмы Чернова-Плесского к спектаклю по пьесе А.Н. Островского «Таланты и поклонники», В. Гюго «Марии Стюард», К. Гоцци «Принцесса Турандот». Сохранились лишь несколько эскизов к костюмам, исполненных легко, свободно, с большим изяществом и живой цветовой палитрой.
Леонид Михайлович очень любил жизнь, свое искусство, свой город, людей, открыто, весело и доброжелательно смотрел на мир. Писал, «Я хочу мир любовно любовью обнять…» И от всего мира он ожидал такого же отношения к себе. Но мир был жесток и несправедлив. В советской стране такая всеобщая «надклассовая» любовь не приветствовалась. Такие люди, как Чернов-Плесский не могли в нем ужиться. И произошла трагедия!..
В последние годы Леонид Михайлович жил в Иваново. К этому времени относится картина «Смерть Ф.А. Афанасьева («Отца»), известного ивановского революционера. Хотя до сих пор он избегал писать картины на историко-революционные темы, портреты вождей и партийных деятелей. Он словно чувствовал приближение зловещей грозы и попытался как-то себя оградить. Не получилось.
Осенью 1938 года Леонид Чернов-Плесский был арестован. Какие ему предъявили обвинения – документы этот факт не сохранились. Конечно, они были надуманными, клеветнически. В Иванове тоже решили, как и повсеместно, по всей стране, «выловить и уничтожить» «антисоветскую» организацию «врагов народа» из числа местной интеллигенции. И Чернов-Плесский попал на этот кровавый эшафот, в это «красное колесо».
По одним сведениям его приговорили к расстрелу, и приговор исполнили 1 октября 1938 года. По другим, боле поздним и документально обоснованным, полученным от родственников и близких художника, он был отправлен в лагерь, расположенный в Архангельской области, и там умер в 1943 году. В конце 1950 годов Леонид Михайлович Черно-Плесский был полностью реабилитирован «из-за отсутствия состава преступления».
Художественное наследие Леонида Михайловича Чернова-Плесского сильно пострадало. Многие его работы потеряны, были уничтожены. То, что осталось ныне находится в Кинешемском художественно-историческом музее, в Ивановском областном художественном музее, в собрании дочери художника Н.Л. Коревой в городе Пушкин Ленинградской области, в некоторых частных коллекциях.
В 1966 году в Кинешме состоялась первая и единственная персональная выставка работ Леонида Чернова-Плесского.
Позволю себе дополнить этот очерк несколькими стихотворениями Леонида Чернова-Плесского, раскрывающих и его поэтический дар.
Зимняя дорога
Тянется длинная ночь.
Все молчит.
Только молчанье невмочь
Вьюге: над лесом ворчит.
Песню мозжит телефон
По столбам.
Грустное слышу сквозь сон –
Точно хоронят: бам, бам...
Страшно, кто, если умрет,
Воют: у-у...
Тащится тихо вперед
Лошадь, качая дугу.
Спит, крепко-накрепко спит
Птичий в лесу несгомон.
Воз по дороге скрипит —
Мнет полужизнь, полусон.
Шумный забыт хоровод,
Мертвый, притих на лугу.
Жутко. Тащится вперед
Лошадь, качая дугу!
Новые калоши
Пусть 22 собаки
В своей драке
На мои калоши лают,
Пусть меня кусают,
Я, хладнокровно-ровный,
Сам себя искусал давно,
И мне все равно —
Я сам — злой хладнокровно.
Страшно, горячих не страшно,
Страшно, что кругом страшно собашно:
Кобели 21 штука на 1 суку
Грызут весны ляжку,
И каждому псу тяжко.
Под камнем счастье свалялось,
И счастью смерть вровень!
Пес каждый — сил вялость,
Каждый пес — Бетховен!
Родит в косматом мочале
Прекрасное —
Кровяно-красное
Весны начало.
Пусть же 22 собаки
В повальной драке,
Пусть свора вся
К калошам тянется.
Но почему же
И я тоже
Злую рожу, харю
Весне скалю?
В небо калошей кидаю.
Знаю, кто я.
Все знаю.
Стою, стоя,
В молчании крепок,
Перед небом
Нелепым
Спорим друг с другом —
Кто из нас погнется,
А солнце смеется,
Круг сменяя за кругом.
Март 1923 г.
Колыбельная
Закатился день крылатый и великий,
Закатился за рекою и упал.
Рассыпая перламутры, блики,
Раскатился и разбился вал.
И за днем — огромной птицей
Прилетела вслед летучей мышью ночь.
Ночь пришла распутною девицей
Убаюкать маленькую сказку-дочь.
В колыбельку месяц ясный
Собрался светить
И фонарь по небу красный
Тихо стал катить.
Тишина и чары над рекою.
Город в сказочный оделся маскарад.
Все курят великому покою
Праздной лени фимиамов чад.
И пришла на место важной скуки
Маленькая простенькая грусть.
Робко тянет всюду, всюду руки,
Что-то давнее с ея слетает уст.
Через тучку месяц ясный
Перелез, смущен,
И его фонарик красный
Грустью освещен.
Светочь грусти душу так смиряет,
Теплую на сердце сагу льет.
Что-то темное далеко умирает,
Что-то светлое с тобою тут идет.
И уносишься в сиянье грустном счастья
Далеко от старых, старых мест,
И забыто черное ненастье,
И кровавый славословишь крест.
Стал на небе месяц ясный
Ярок и высок
И фонарь кроваво-красный
В золото разжег.
Кинешма.
13 июля 1922 г.
Декламация
Метель (Деревенская)
Тоскливо прижалось молочное небо
К деревне, как бы за ночлегом;
Как будто сметаной намазаны хлебы,
Чернеют избушки под снегом.
И к избам худые озябшие руки
Простерли с мольбой огороды.
Торчат, равнодушные зрители скуки
Деревья — бойцы непогоды.
Гульливые бражники летом с ветрами,
Худые аскеты теперь —
Как метлами пол-леса бородами
Метут, подметают мятель.
Миллонами звездочек — будто как слезы —
Возносится снежная пыль...
Кто плачет, кто воет, нарядные грезы
Прогонит — недавнюю быль?
То в ужасе — волосы дыбом со страха, —
Толкая друг друга, спеша
И с берега в реку кидаясь с размаха,
Коричневой массой киша.
Кусты лозняка и елошника толпы,
Березы пугливой костяк,
И ели, и сосны все сбилися с толку,
Качаются, стонут, скрипят...
И в хаосе диком вдруг слух пораженный
Пастушечью ловит свирель...
И метлами, метлами лес обнаженный
Мятель — как молочная с луга корова,
И тучи — как вымя, и снег — молоко ...
Но люди не жаждут, ей нет у них крова:
Дворец распахнул лишь поэт широко.
Еще (Городская)
Над мглистым городом мятель
Свой вольный пир ведет:
Тут, там свивает карусель
Веселый хоровод.
Разгульный милый мой казак,
Возьми меня с собой,
Неси!.. Не ворочусь назад,
Умчавшись за тобой.
Что я оставлю позади?
Болотной тины тлен ...
А впереди: на лошади
Свободы сладкий плен!
Бокал поднимем снежный твой
За воль степей и гор:
Да сгинет тропка мостовой,
Да здравствует простор
* * *
Я пойду по весне
Полупьян, в полусне
И в лиловом огне
Я в фиалку влюблюс,
любя, изведусь
Летом лягу в цветы.
Брошу сон на снопы,
В окрыленьи мечты
Зачаруюся в бор,
Осинюся в простор.
Облетаю весь мир,
Опляшу Божий мир
И как бледный факир,
Никого не любя,
Замуруюсь в себя.
И тогда все равно
Буду знать, что одно,
Что одно нам дано —
В беспредельный предел
Верить вечный удел.
Оттого ли листок,
Ни красивый цветок
Ни летящий поток
Не расскажут всего
Отчего, отчего?
И лишь только в тиши
В уголочке души
В уголочке души
Вспыхнет, будто в ответ
Озаряющий свет.
И звезда упадет
И звезда упадет
Кто-то тихо придет
Тихо, тихо падет,
Тихо, тихо умрет.
И в сияньи луча
Ласка чья-то ничья
Задрожит у ручья
Заворожит кусты
Зачарует цветы.
Фиолетовый день
Заплетется сирень.
Опрокинется в тень
И тогда по весне
Я умру в полусне.
И с кострами огня
С половодием дня
Песнь сольется моя.
31. Заполярные миражи над Кинешемкой.
В последние десятилетия своей жизни Иван Никандрович Нефедов любил бывать в Киншеме. Здесь у него оставались хорошие знакомые, которые не шарахались от него, как от «врага народа», вернувшегося из лагеря и как будто бы «прощеного» Советской властью, но все равно человека подозрительного, не нашего, чуждого, находящегося под присмотром НКВД. В Иванове же, где он постоянно жил, где была у него семья и куда он вернулся из лагеря, даже стародавние друзья старались его обходить, с ним не встречаться, по душами не разговаривать. Да и сам Иван Никандрович понимал, что любое его неосторожное слово – и за ним снова придут… Поэтому жил в зловещем и глухом вакууме.
В 1960 году, когда Ивана Нефедова полностью реабилитировали, «за отсутствием состава преступления», здесь, в Кинешме никто не лег к нему с расспросами: как ему было там, за полярным кругом, как он вообще выжил? Но он, как и прежде понимал, не делился никакими воспоминаниями. Как он выжил, как его еще в довоенные времена выпустили из лагеря? Иван Кинандорович и сам не мог объяснить. Ему просто посчастливилось. Но лучше об этом не думать.
Правда, свои заполярные воспоминания Иван Нефедов отражал в живописи. «Озеро Таатуй», «Весна в Заполярье», «Утро на реке Чибью», «Заполярная пристань Абель», «Заполярный пейзаж», «Морозный день. Север», «Весенний разлив на севере»,»На подступах к Заполярью», «Радуга в тундре»… Нет, нет! – в этих картинах не было никаких «лагерных» изображений – только «чистый» пейзаж. Ничего другого Иван Никанщдрович даже в конце жизни так и не решился показать.
Хотя его «Заполярный пейзаж» оставляет зловещее впечатление. Низкорослые, скрюченные, изломанные деревца на бескрайнем заснеженном поле, безмолвном и страшном, безлюдном и безысходном. Вот Такими изломанными, безнадежно заброшенными были и судьбы людей, сюда попавших. Точнее – «заков», которые уже выбыли из человеческого сословия. Страшный, трагический этот пейзаж!
Иван Никандрович Нефедов еще потому любил бывать вы Кинешме, что с ней у него были связаны лучшие, светлые, такие многообещающие годы. Благодаря Кинешме он, молодой художник, триумфально вошел в отечественное искусство. Но это произошло в 1912 году. А прежде были детские годы в Иваново-Вознесенске, где он родился в 1887 году, реальное училище. В нем у Вани Нефедова, сына фабричного служащего, проявилась склонность к рисованию. Несомненную одаренность мальчика заметил учитель рисования А.О. Шейман и стал всячески способствовать этому его увлечению
Смышленый мальчик настолько овладел первоначальной изобразительной грамотностью, что в 1906 году, успешно сдав трудные экзамены, поступил в Московское Училище живописи, ваяния и зодчества. Мальчик из фабричной окраины, который сразу же показал свои неординарные способности.
Стремительному развитию дарования Ивана Нефедова способствовал уже сам подбор именитых профессоров в Училище – В. Серов, К. Коровин, А. Архипов, Л. Пастернак. Он стал активно участвовать в ученических выставках, получать призы, награды и похвалы. В 1908 году за картины «Кладбище», «Весна», «Плес», «Сумерки» он был удостоен престижных премий имени И.И. Левитана и П.М. Третьякова.
Настоящим же триумфом стал для него год 1912-й. Он закончил Училище и дипломная его живописная работа «Раннее утро» получила высшую оценку и звание классного художника. Иван Никандрович очень дорожил этой картиной, долго с ней не расставался, хотя за нее предлагали большие деньги. Лишь в 1960 году он передал ее в Ивановский областной художественный музей.
В «Раннем утре» и в других работах 1910 – начала 1920 годах уже в полной мере проявились основные черты его творчества. Он отходит от неукоснительного передвижнического следования натуре, начинает мыслить широко, обобщенно, свободно. Его образное видение рождается под влиянием не столько натурных наблюдений, сколько философских его духовно-нравственных идеалов. В своих лучших картинах художник старается не столько показывать, но скорее – рассказывать, повествовать, высказать свое отношение к природе, к окружающей действительности. Ярким примером такого отношения является упомянутый «Заполярный пейзаж».
Свои основополагающие творческие принципы молодой художник впервые в какой-то степени сформулировал в Кинешме. Сюда он приезжает не в первый раз. Еще в 1906 году, когда он посещает плес, то мимоходом заглядывает и в Кинешму. Но вот теперь, шесть лет спустя, он остается здесь, вероятнее всего, на все лето. Здесь он пишет не только диплом «Раннее утро», но картины «Окраина Кинешмы», «Пристань Кинешма», «Река Кинешемка», «Утро у подножья обрыва». Большой живописные кинешемский цикл из дошедших до нас работ. А сколько их было потеряно – ведь художественное наследие Ивана Никандровича Нефедова, особенно самых ранних времен, претерпело большие утраты.
В этом же 1912 году эффектно проявилась еще одна сторона его дарования – общественно-организационная. Под свою личную ответственность он собрал в Москве подлинные работы таких выдающихся мастеров отечественного искусства, как И. Репин, В. Серов, В. Васнецов, С. Малютин, Владимир и Константин Маковские, А. Архипов и показал их на вставке в родном городе Иваново-Вознесенске. Успех был грандиозный! Такого вернисажа и первейших имен отечественной живописи в городе еще никогда не было. Она стал в своем городе знаменитым человеком, которому можно доверить серьезные дела.
Поэтому местный фабрикант, коллекционер и меценат обращается к молодому художнику за помощью в устройстве в городе музея. Иван Никандрович способствует организации художественного училища, начинает свою педагогическую деятельность – преподает в рисовальной школе. Казалось бы, перед ним открываются такие многообразные и многообещающие перспективы…
Но совершенно неожиданно Иван Нефедов делает крутой поворот. Он посчитал, что его художественное образование, полученное в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества, недостаточно. Иван Никандрович бросает все свои дела и отправляется в Петербург «доучиваться» в Академии художеств. Его принимают в свою популярную студию Дмитрий Николаевич Кардовский, с который у него налаживаются близкие дружеские отношения, продолжающиеся до конца жизни именитого учителя. Много позже Дмитрий Николаевич даже приезжает к Ивану Нефедову в Иваново. Они активно переписываются.
Кардовскому явно импонировало графическое дарование Нефедова. При его содействии Иван Никандрович проявил свои незаурядные рисовальные возможности в популярном журнале «Жизнь для всех». Но в 1915 году Ивана Нефедова неожиданно призывают в действующую армию и отправляют на фронт. Пробыл он там недолго. В дни февральской революции 1917 года Иван Никандрович возвращается в Петроград. Но его совершенно не привлекают революционные бури и грозы. Он понимает, что учиться ему уже не придется и, вероятно, по совету Кардовского уезжает домой, в Иваново.
Домой Иван Никандрович приехал, будучи уже известный, высоко профессионаьным мастером. Даже родители, доселе довольно скептически относящиеся к епго художественным занятиям, с ними смирились. К отчему дому он пристроил огромную мастерскую: светлую, просторную, хорошо оборудованную. Вдоль стен стояло несколько мольбертов с начатыми картинами – Нефедов любил работать параллельно над несколькими сразу.
Здесь же устраиваются литературно-музыкальные вечера, на которые приходили вся творческая интеллигенция города – писатели, поэты, музыканты, художники. Жена Ивана Никандровича – Любовь Николаевна хорошо играла на фортепиано, дочь – Нина Ивановна пела и помогала матери в устройстве семейного салона.
В доме Нефедовых появлялись и достаточно именитые гости. Своего ученика кА-то проведал Дмитрий Николаевич Кардовский, был несколько дней. Иван Никандрович даже возил его на волгу – не то в Плес, не то в Кинешму. К сожалению, об этой встрече сведения очень туманы.
В разное время у Нефедовых гостили Павел Дмитриевич Корин и его земляк Николай Михайлович Зиновьев, будущий ректор Академии художеств Аркадий Максимович кузнецов, московский искусствовед Михаил Владимирович Алпатов.
Иван Никандрович в 1920 – начале 1930 годов много работает. В творческих командировках побывал на Урале и в Крыму и, конечно, в «своих» приволжских городах – Кинешме, Плесе, Юрьевце. Именно в это время он пишет такие значительные картины, как «Кинешемский элеватор», «Дождь на Волге вблизи Кинешмы», «Теплый вечер» и другие. В его творчестве появляется новая – историко-революционная тема, вероятно, естественный отклик на общественно-политические изменения, происходящие в искусстве. Правда, его картины относятся к событиям 1905 года и расстрелу рабочих царскими войсками в 1915 году. В них он показал хорошее владение историческим материалов.
Иван Никандрович активно участвует в общественно-художественной жизни города и области, стоит у истоков Ивановской организации Союза художников российской Федерации. Он преподает в Ивановском художественном училище и в Педагогическом институте, пользуется большой любовью у своих учеников.
И в самом расцвете большого самобытного таланта на него неожиданно обрушивается страшная беда. В 1936 году он был арестован. Во время обыска забирают всю его переписку, в том числе большую пачку писем от Кардовского. После недолгого следствия его отправляют в Воркуту, в один из лагерей. В чем обвинили Нефедова, что стало поводом для явно надуманного судебного преследования? Неизвестно.о содержании «дела» Ивана Нефедова я не знаю, сам же он после возвращения из приполярного лагеря старался не упоминать о тех страшных днях. Понимал, если неосторожно проговориться, то за ним снова придут…
Ивану Никандровиче еще «повезло». В лагере за Полярным кругом, он попал, как художник, в геодезическую группу, мог даже делать зарисовки, которые позже станут основой серии его «заполярных»картин. И пробыл он в лагере сравнительно недолго – всего пять лет, это было гораздо меньше самого минимального срока. Повезло ему еще и в том отношении, что вернулся он за несколько месяцев до начала войны – после июня сорок первого года уже никого не выпускали, а добавляли лет по десять-пятнадцать.
Жилось Ивану Никандровичу очень трудно. Его картины музеями не покупались. Никаких государственных заказов, на которые он мог бы сносно существовать, он не получал. Разрешили лишь какой-то второстепенный курс в художественном училище. Но ученики его любили. За высокий профессионализм, большие знания, несомненный педагогический дар. Да и человеком Иван Никандрович был мягким, доброжелательным, подчас наивным и непосредственным, что, кстати, теперь ему только вредило. Педагогическая его популярность настораживала соответствующие органы НКВД – КГБ, слежка за ним носила неприкрытый характер, что страшно угнетало Ивана никандровича. Временами он ждал, что за ним вот-вот придут.
Единственной его «отдушиной» в столь кошмарном существовании была творческая работа. Для себя. Все, им написанное и нарисованное, оставалось в мастерской. Работать на «натуре» предпочитал в Кинешме, Плесе, Юрьевце. Подальше от слишком внимательных глаз и обостренного слуха.
В Иваново приходилось всячески доказывать свою лояльность Советской власти, поэтому он писал картины на историко-революционные темы. В основном, об эпизодах борьбы с самодержавием в Иваново в 1905 и 1915 годах. Пришлось даже написать цикл картин на колхозные темы.
Когда становилось невмоготу и хотелось душевного отдохновения, уезжал в Кинешму.
Умер Иван Никандрович Нефедов в 1976 году.
В 1988 году в Иванове состоялась персональная юбилейная выставка его произведений, посвященная 100-летию со дня рождения художника.
32. Время созревания «чудесного яблока».
Ефим Васильевич Честняков. Удивительное, самобытное искусство этого «деревенского» художника, открытое в семидесятых годах прошлого века московским искусствоведом и реставратором Савелием Ямщиковым и его московскими и костромскими сотоварищами, стало чуть ли ни самой громкой сенсацией в отечественной живописи второй половины ХХ века. Доселе совершенно неизвестный, живший уединенно в деревне Шаблово, близ города Кологрива, Костромской области, он сразу же стал знаменитым, популярным. Его персональные выставки стали истинным откровением не только в Ленинграде, Москве, Костроме, но и в Париже, Турине, Флоренции и других зарубежных городах.
Неведомому до сих пор «шабловскому затворнику» теперь посвящены сотни статей, книги, научные исследования, каталоги, альбомы. О такой всемирной славе деревенский художник не мог даже мечтать. К сожалению, до нее Ефим Васильевич не дожил лет пятнадцать – двадцать. Честнякову еще повезло. Некоторые великие художники получили признание через сто и более лет после ухода из жизни.
Нынешняя популярность Ефима Васильевича Честнякова обуславливается еще и тем, что он был не только ярким, талантливым и своеобычным живописцев, но скульптором, блистательным рисовальщиком, литератором, музыкантом, философом. Они считают его гением, другие – чудаком, и фантазером, третьи – святым. Он, наверное, был и тем, и другим, и третьим, и еще многим. Его личность и его искусство было сложным, многозначным и многоликим.
Ефим Васильевич Честняков родился 19 декабря 1874 года в деревне Шаблово, Кологривского уезда, Костромской губернии – в этой же деревне он и умер девяносто лет спустя, 1961 году. Увлечение рисованием проявилось в раннем детстве. Много позже он напишет Илье Ефимовичу Репину: «Моя мама отдавала последние свои гроши на бумагу и карандаши. Когда немного подрос, каждое воскресение ходил к приходу и неизбежно брал у Титка серой курительной бумаги, причем подолгу любовался королевско-прусскими гусарами, которые украшали крышку сундука, вмещавшего весь товар Титка… когда поедут город, то со слезами моли купить красный карандаш, и если привезут за пять копеек цветной карандаш, то я – счастливейший на свете и готов всю ночь сидеть перед лучиной за рисунками. Но такие драгоценности получались совсем редко, и я ходил к речке собирать цветные камешки, которые бы красили…»
Самым злополучным, по его словам, жизненным обстоятельством являлось то, что он был единственным сыном у родителей и обязан был помогать им в крестьянском хозяйстве. Со временем они ожидали, что он возьмет на себя весь их крестьянский труд. Поэтому они стремились всячески удержаться при себе, в своем доме. А ему хотелось учиться – поехать в город, что его родители считали ненужными, вредным.
Еле-еле Ефим закончил земскую школу. О какой-либо его дальнейшей учебе родители не хотели даже слышать. Ему пришлось буквально убежать из родительского дома в город Новинский. Где он закончил учительскую семинарию Стал учителем. Преподавал в Здемироской начальном училище, затем в Костромском начальном училище для малолетних преступников и, наконец, – в начальном училище в селе Углец Кинешемского уезда, той же Костромской губернии.
Обычно исследователи творчества Ефима Честнякова о кинешемском периоде его жизни упоминают мимоходом, не придавая ему должного и, как я считаю, определяющего значения. Но именно этот период стал переломным во всей его дальнейшей судьбе. Конечно, Ефим сбежал из родительского дома не для того, чтобы после окончания у3чительской семинарии стать сельским учителем. Главным он считал – рисование. В это время он много, упорно и самозабвенно работает. Рисует, пытается писать маслом. Именно здесь начинает созревать «чудесное яблоко» его огромного, самобытного таланта. Именно здесь он в полной мере осознает свое художественное предназначение, как истинный смысл своей жизни, своего земного существования.
Но он также понимает, что свыше данный ему божественный дар он пожжет воплотить в искусство только посредством профессиональной учебы. Причем на самом высшем уровне – в Петербургской Академии художеств, у самого главного профессора России – Ильи Ефимовича Репина. И такая самоуверенность, самонадеянность, фанатичное упрямство – опять-таки от осознания своего необычного предначертания в жизни, от осознания своего таланта.
Причем Ефим Васильевич придавал ему не столько сугубо прагматический, профессиональный, сколько духовно-нравственный, философский смысл. Умение рисовать, писать маслом, как большие русские мастера, как Репин, нужны были ему именно для художественного, изобразительного выражения этого глубинного «философского» смысла.
А вот дальше произошло нечто необъяснимое, интригующее. Обычно словоохотливый в своих письмах, прежде всего к Репину, подробно описывающий свою жизнь, Ефим Васильевич об этом периоде жизни сообщает весьма загадочно. Много позже он так поведает Корнею Чуковскому – дескать, мои рисунки «нечаянно» «пропутешествовали» к Илье Ефимовичу Репину. Что конкретно скрывается за этими двумя фразами «нечаянно» и «пропутешествовали», Честняков не объясняет. Но крайней мере в опубликованных письмах Ефима Васильевича, прежде всего к Репину, какие-либо подробности этого «нечаянного путешествия» его рисунков из села Углец, а точнее из Кинешмы, в Петербург я не нашел.
Правда, еще в литературе встречается упоминание о каких-то «добрых людях», которые помогли совершить рисункам Честнякова такое «путешествие». Но кто они, эти «добрые люди», как они смогли передать работы деревенского, неведомого им сельского учителя Илье Ефимовичу Репину? Как это произошло, при каких обстоятельствах?
Сам Ефим Честняков упоминает о «нечаянности» этого чрезвычайного важного для него события, о случайности его. А если б рисунки Честнякова не дошли бы до Репина, затерялись, погибли – что произошло бы тогда с судьбой самонадеянного сельского учителя?! Страшно подумать! Но, вероятно, кто-то «свыше» был очень милостив к сумасбродному, отчаянному, дерзкому парню из кинешемской глубинки. Рисунки Ефима Честнякова до Репина дошли. Он их просмотрел и отметил «несомненную способность» их автора. Более того, Илья Ефимович заинтересовался им и пригласил приехать в Петербург и поработать в его мастерской в Академии художеств, профессором которой он являлся.
Но еще – об этих рисунках Честнякова. Естественно, это были последние, новые работы художника, исполненные уже в селе на Кинешемской земле, самые лучшие, что он мог показать великому русскому мастеру. К сожалению, они не сохранились Но уверен, в них уже явно просматривались черты будущего знаменитого «Чудесного яблока», быть может исполненные еще неопытным, начинающим и наивным в профессиональном отношении самоучкой.
Но было в этих странных рисунках нечто такое, что заинтересовало Репина, что позволило ему предугадать в сельском парне будущего художника. Правда, даже Илья Ефимович тогда не мог увидеть в нем удивительного русского феномена. Да смог ли сам Ефим Васильевич, при всем своем страстном желании самоутвердиться, мечтать о столь великом своем будущем?!
В это время он был счастлив нежданным, «нечаянном» внимании к себе великого русского живописца. Писал: «Фортуна случайно увидела меня и улыбнулась, во мне затрепетало сердце, я весь затрепетал от радости – и ожил… Я так долго пробивался на эту дорогу, поэтому не теряя ни минуты, не отвлекаясь ничем в сторону – нужно только учиться и учиться, чтобы не опоздать и успеть во время. Пропустишь лето, в лес по малину уже не ходят!»
Ефим Васильевич прекрасно понимал, что этот случайно выпавший ему счастливый шанс терять нельзя. Он все бросает и сломя голову едет в Петербург. Происходит этот переломный момент в его жизни осенью 1899 года. Но прежде он отправляется в свой уездный центр – в Кинешму, где он, надо полагать, не единожды бывал, и получает от главного уездного начальника (не знаю, как он тогда назывался) документ о том, что Ефим Васильевич Честняков «действительно является жителем села Улец Кинешемского уезда Костромской губернии и едет в Петербург учиться». Точного содержания документа я не знаю, потому излагаю его приблизительно. Тем более, что сама эта «казенная бумага», к сожалению, не сохранилась. А какой бы это был отменный экспонат для любого музея!
Илья Ефимович Репин встретил Честнякова милостиво. Сразу же проверил его профессиональные знания и остался ими неудовлетворен. Прежде всего в рисунке. С такими слабыми познаниями в нем Репин не мог принять даже несомненно одаренного парня в свою академическую мастерскую. Илья Ефимович советует ему поехать в Казань и позаниматься в художественной школе, где ему быстро «поставят» необходимый рисовальный «голос».
Честняков мчится в Казань. По рекомендации Репина, его принимают в школу без всяких проволочек. Он настолько быстро овладевает нужной рисовальной грамотностью, что вскоре возвращается в Петербург, к Репину. Тот определяет его в мастерскую Д. Кардовского. Честняков также занимается в мастерской княгини М.К. Тенишевой, которой руководит сам Репин, становится его помощником и в других творческих делах мастера. Позже признается Илье Ефимовичу, что именно на нем «весь свет сошелся клином», что только с ним он «может осуществить свои идеалы и ожидание».
Ефим Честняков не завершил свое обучение в Академии художеств. После кровавого воскресения 9 января 1905 года здания Академии художеств были на какое-то время закрыты, и обучение в них прервалось. Эти обстоятельства, а, наверное, и другие, более серьезные, заставили Ефима Васильевича уехать в родную деревню Шаблово. Лишь единожды он появляется в Петербурге в 1913 году, какое-то время занимается в мастерской Д. Кардовского. Но, вероятно, не получает того, на что он рассчитывал, поэтому возвращается в Шаблово и уже навсегда.
И только здесь произошло созревание его «Чудесного яблока» в полной мере. Путем сложного, неоднозначного, непредсказуемого творческого процесса родился удивительный феномен – Ефим Васильевич Честняков.
О его самобытном, поразительном, ни на кого не похожем искусстве сейчас пишут много и по-разному. Действительно, понять и в полной мере оценить всю глубину, неординарность и самобытность его таланта трудно. Слишком сложное, непривычное, необычное, уникальное художественное, но в равной степени и духовно-нравственное, философское явление – Ефим Честняков. В основном пытаются понять его, проецируя на Академию художеств и Репина.
Но смею утверждать, что там он получил лишь профессиональные знания – блистательные рисовальные возможности, неповторимую живописную пластику и сразу узнаваемую цветовую палитру. Умение легко и свободно строить самые сложные, многофигурные композиции, овладевать перспективой, пространством и другими, необходимыми для художника техническими навыками.
Свои же духовно-нравственные «идеалы и ожидания», о которых он упоминал в письме к Репину, он приобрел не в Петербурге, и не у Репина, а много раньше – в Шаблове, в Костроме, в Кинешемском уезде. С этими идеалами он родился, смыслом своего земного существования. Они – из самых-самых народных, крестьянских глубин, от великой народной мудрости, что нельзя приобрести никакими академиями, никакими наставлениями даже самых именитых мастеров.
Обратите внимание – ведь стилистика, образность мышления и объяснение окружающего мира, манера выражения – от народного примитива, от народного лубка, от тех картинок с гусарами, которые Ефим Честняков увидел в раннем детстве, в своем сельском учительстве, а позже – в своем крестьянском бытии в Шаблове.
Ничего подобного он перенять не мог ни в Академии художеств, ни у Репина, ни от главенствующих и всеобъемлющих в то время в русскому искусстве направлений. В неповторимой живописи Ефима Честнякова я не нахожу ни импрессионизма, ни «сезаннизма», которыми были в той или иной степени «пленены» многие прекрасные русское художники, ни авангарда или иного модернизма, ни сугубо натурного передвижничества, ни «мироискусстничества».
Не нахожу в искусстве его и такого повсеместного в нашей культуре обращения к древнерусскому искусству, к библейским и церковным сюжетам. А эти обращения считаются даже сейчас чуть ли ни главными для художников, особенно деревенской тематики. А Ефим Честняков, вероятно, ни принимал библейские и церковные сюжеты, как совершенно чуждые своему исконно крестьянскому таланту. И эта его истинность весьма показательна, поучительна и пожалуй, вполне закономерна.
Не буду рассказывать о шабловском периоде жизни и творчества художника – он хорошо известен и подробно описан в литературе. Тем более, Ефим Честняков, его феноменальный талант меня интересует прежде всего с «кинешемской» точки зрения. Интересует потому что нечто «кинешемское» можно найти в его наиболее значительных произведениях. «Чудесное яблоко», «Сказка о крылатых людях», «Город Всеобщего Благоденствия», «Детские забавы», «Сказка о летучем доме», «Праздничное шествие с песней», «Сказочный мотив», «Тетеревиный князь», «Тетеревиный корабль», его дивные сказки, многозначительные фантазии.
Шабловские они? Конечно!
Кинешемские они? Вполне могут быть такими.
Как, впрочем, и почти любой деревни во глубине России.
…Будучи в командировке в Кологриве, я буквально на час заехал в Шаблово. Осмотрел дом, в котором жил и работал Ефим Васильевич Честняков, поклонился его могиле. И здесь меня поразило то, что две старушки не из местных укладкой собрали несколько пригоршней земли с могилы и осторожно ссыпали их в приготовленные для этого мешочки.
– Зачем Вы это делаете? – спросил я их.
– А как же. Ведь Ефимушко-то наш – святой человек. При жизни он творил чудеса, помогал людям, много доброго для них сделал. Земля с его могилы тоже святая, тоже чудеса творит. От болезней и разных напастей излечивает, душу очищает, плоть животворит…
Потом мне рассказали, что землю с могилы Ефима Васильевича со дня его смерти постоянно собирают уже в течении многих лет. Издалека приезжают, из других областей. Сторожа даже ставили, – по помогает. Все равно землю растаскивают. Поэтому время от времени могилу мы досыпаем землей…
Ефим Честняков знал меру своего таланта, своего народного призвания. Но о такой всенародной славе «святого человека» он даже не мечтал. Но она пришла к нему совершенно заслуженно!
33. Как в Париже «открыли» Кинешму.
На Всемирной выставке в Париже в 1937 году, в художественном разделе Советского павильона и зрители, и искусствоведы обратили внимание на несколько картин молодого живописцы Александра Ивановича Морозова, доселе мало известного даже в собственной стране. Это были пейзажи небольшого рабочего города Кинешмы, расположенного на Волге. Пейзажи, казалось, ничем не примечательные, внешне не эффектные, не броские, но исполненные сильно, мощно, напористо, с глубоким внутренним романтически-приподнятым настроением и с несомненным и самобытным дарованием.
Хотя слово «Кинешма» ничего не говорило членам французского жюри и произносилось с трудом, но они единогласно присудили художнику Почетный диплом, что было большой честью не только для Морозова, но и всех советских художников – участников выставки. Тем более, что среди них были опытные, заслуженные мастера. Вот так в Париже, на таком всемирном, масштабном изобразительном поле, очевидно, впервые была «открыта» Кинешма, да и сам автор Катин о ней Александр Иванович Морозов.
Но как, при каких обстоятельствах были созданы картины о Кинешме, и как они попали в Париж? Чтобы ответить на эти вопросы, – необходима предыстория о жизни и творчестве Александра Ивановича Морозова.
Родился он в 1902 году в деревне Вотола, в 12 километрах от города Иваново-Вознесенск, центра нынешней Ивановской области, к которой теперь принадлежит и Кинешма. Семья была большой (шестеро детей) и очень бедной. Отец работа разнорабочим на текстильной фабрике, мать занималась хозяйством. Когда отец умер, мать не смогла содержать семью, ей пришлось детей отдать в приют. Здесь Саша Морозов и окончил школу, в ней его привлекало лишь рисование, а еще он любил раскрашивать бумажных змеев.
После окончания школы Саша Морозов определяется в рисовальную Студию, вскоре преобразованную в художественно-производственные мастерские, которые готовили художников для текстильной промышленности. Летнюю практику проходит на хлопчатобумажной фабрике в Кинешме, конечно не подозревая о том, что этот город много позже, почти через 20 лет, станет вершиной его творческого дарования, что именно здесь он прославит себя и Кинешму в Париже.
Но пока, – пока Саша Морозов мечтал, всячески стремился попасть в Москву и поступить в знаменитый Вхутемас, чтобы стать настоящим художником. В Москву он приезжает, но со своими куцыми общеобразовательными познаниями поступает лишь на рабфак и после его окончания в 1926 году его принимают во Вхутемас, переименованный вскоре во Вхутеин. Учился трудно, но был упрям и поразительно работоспособен. Все свободное время проводил в Третьяковской галерее и Музее изящных искусств. В 1930 году начинает самостоятельную творческую жизнь. Много работает. Создает большую серию картин о Масловке, где у него была небольшая мастерская, привлекали его окраины столицы, парки, пруды, рабочие районы.
В 1935 году в клубе на Масловке устроил первую свою персональную выставку. Показал 40 вполне законченных произведений. Дебют молодого художника заметили, оценили высоко. Так, С.В. Герасимов сказал: «Мы встретились с интересным живописцем… Художник совершенно новый и с каким-то новыми глазами… Живописец сильный, интересный». Критик Осип Бескин: «Я лично хотел бы видеть все работы Морозова. Мы впервые столь широко видим этого нового для нас художника». Федор Богородский: «…Морозов – очень интересное явление потому, что он говорит ясным, непосредственным, органическим языком. Это живопись, о которой мы мечтаем, думаем и говорим. У него есть известный элемент романтики, есть своеобразное, органическое толкование любого явления природы. Кроме того, он простой, ясный поэт». Перельман: «Морозов – это очень интересное и большое явление!» В этой, быть может, несколько корявой стенограмме обсуждения столь разные и уже признанные художники в одни голос говорят о Морозове, как о новом, интересном явлении в советском искусстве. Его выставочный дебют был успешным.
Заинтересовался молодым живописцем и такой уважаемый и почтенный мэтр, как Л.В. Туржанский. Посмотрел его работы и сказал: «Из него получится художник!» Попросил познакомить с Морозовым. Но когда пришел в его мастерскую, то не увидел новых работ – они разошлись по выставкам, музеям, частным собраниям. Тогда-то и посоветовал молодому художнику: «Не отдавайте своих вещей, разлетятся они и взглянуть будет не на что!» С тех пор Александр Иванович старался не расставаться со своими работами, не выпускал их из мастерской и продавал лишь по самой крайней необходимости. Сберег твое творческое наследие, приберег все для своего персонального Музея, о котором я ще скажу.
Несмотря на явные творческие достижения, сам Александр Иванович не был ими удовлетворен. Он, как ему казалось, топчется на месте, ему были необходимы новые мотивы, новые подходы к натуре, новые сюжеты и темы, в которых он мог бы раскрыть полностью свое дарование. Ему нужны были новые творческие импульсы, новые впечатления о новых местах.
И такая возможность скоро ему представилась Правда, поводом к перемене мест послужили неблагоприятные бытовые условия. В Москве у него не было постоянного жилья, не было комнаты, квартиры, ему негде было жить. Поэтому решил на время уехать из Москвы.
Осенью 1936 года он уезжает в Кинешму. Почему именно в Кинешму? Быть может, там у него остались друзья, хорошие знакомые со времени одной из летних практик, которые он здесь проходил, когда учился в художественно-промышленных мастерских в Иваново. Может быть, послушался чьего-то совета? Но, очевидно, в Кинешму он заехал не случайно. Был, был для этого повод. Причем заехать сюда на целых три (!) года, с 1936 по 1939-й, с краткими зимними отъездами в Москву для работы в мастерской на Масловке.
И Кинешма оказалась «звездным часом» для творчества Александра Морозова, самым высоким его творческим взлетом, когда он «своей кистью дотронулся до вечности!» Здесь он полностью осознал себя художником. Здесь он сформировал свой неповторимый живописный язык, свою мощную, сильную, мужественную манеру живописного выражения, свой стиль, свой Образ. И художник, в свою очередь, прославил Кинешму на самом высоком международном уровне, как никто из художников ни до него, ни после.
Кинешма, сразу же после приезда Морозова сюда, вызвала у него поразительный творческий подъем. Постараюсь перечислить его работы, наверное, далеко не все, исполненные в Кинешме и указанные в каталогах. Уже в 1936 году он написал такие картины, как «Баржи вечером» («Сумерки на Волге»), «Баржи на Волге», «Ветреный день», «Ветер на Волге, «В Кинешме», «Кинешма», «Кинешма. Товарная пристань», «Индустриальный пейзаж», «Вечер на Волге», «На Волге. Кинешма», «Ткацкая фабрика в Кинешме», «Баржи у причала», еще несколько видов города и Волги. В 1937 году относятся «На Волге в облачный день», «Буксир в затоне», «Сумерки на Волге», «Натюрморт с самоваром», «Заброшенная мельница», виды Кинешмы, волжские пейзажи, пристани, затоны, буксиры, баржи…
1938-м годом датированы такие значительные картины, как «Буксир на Волге», «Перед дождем», «Последние дни навигации», «Зима на Волге», «Вид из окна», «Моросит», «Осенний день на Волге». Несколько кинешемских и волжских работ исполнено в 1939 году. Словом, получилась огромная волжская художественная летопись, которую доселе здесь никто не создавал. Добавил бы даже еще «индустриальная» волжская летопись. Александр Иванович сам ввел такое наименование некоторых своих картин. Это было не только веянием времени – страна лихорадочно, стремительно строилась, – но и личными убеждениями художника, рабочей, деловой обстановкой в городе. Поэтому художник с искренним упоением, со страстью и азартом писал фабрики, пристани, затоны, буксиры, баржи, краны и находил в этом творческое удовлетворение, творческое упоение и восторг.
В Кинешме Александр моров завершил формирование своей стилистической живописной манеры, она стала сугубо индивидуальной, сразу узнаваемой. Прежде всего своим сложным, глубоким монументальным и напряженным колоритом, состоящим из темно-коричневых, темно-зеленоватых сумеречных тонов. Сильная, мощная, крепкая монументальная живопись, суровая живопись. Но внутренне жизнеутверждающая, возвышенная. Я назвал бы ее романтически-драматической. Но в ней нет ни трагизма, ни тяжеловесности, ни безвыходности. Сумеречные, как бы «облачные», тона вдруг прорываются светлыми, ясными, радостными цветами – будь то изображение белоснежных церквей и колоколен, матовое серебро водяной глади, солне5чные просветы в облаках или красно-коричневая окраска барж и буксиров. Цветовой строй картин при всей его напряженности, порой тревожности, устойчив, тверд и сосредоточен. Но художник может быть и откровенно лиричным, поэтичным и возвышенным. Так, его «Цветы» – подлинный гимн жизни, солнцу и радостному упоению. При всей своей внешней цветовой определенности его палитра весьма сложна, многослойна и многозначна. Подчас она построена на цветовых контрастах и разных, почти противоположных созвучиях. Живопись Александра Морозова – интересное, самобытное художественное явление, истоками которой при всей ее оригинальности, вероятно, могли быть и французские «барбизонцы и постимпрессионисты».
Несомненный европейский стандарт искусства Александра Морозова, высокий профессионализм и мастерство и были отмечены на Всемирной выставке в Париже в 1937 году престижным Почетным дипломом. Как утверждают такие авторитетные искусствоведы, как В.И. Костин и Е.С. Калинин, за серию волжских (подчеркнуто мною. – Е.К.), то есть кинешемских картин. Никаких иных волжских произведений ни прежде, ни потом у Морозова не было. И Костин, и Калинин хорошо лично знали Александра Ивановича и, несомненно, утверждали это со слов самого художника. Но они, к сожалению, не назвали картин, которые побывали в Париже. Не нашел я их перечня и в других документальных источниках. Могу лишь предположить, что на Парижской Всемирной выставке экспонировались «Кинешма», «На Волге. Кинешма», «Вид на Кинешму», «Баржи у причала», «Баржи на Волге» и, быть может, еще какие-либо картины, исполненные в конце 1936 – начале 1937 годов.
В апреле 1939 года состоялась вторая персональная выставка работ Александра Морозова в залах на Кузнецком мосту. Отбор на нее проходил достаточно жестко. Художнику пришлось выслушать и критические замечания. В частности о кинешемской картине «Буксир в затоне». Например, А.А. Дейнеке не понравился грязно-серый снег на берегу Волги, темные очертания барж.
– Картину надо дорабатывать, – сказал Дейнека.
– Переделывать не буду! – отвечал Морозов. – Я всегда пишу с натуры. Как картина получилась, такой и останется! Я могу представить и другие холсты, но поправлять что-либо в них я также не буду. У меня, конечно, есть недостатки, но они пусть и останутся…
– Сколько Вы работали над этой картиной? – спросил Дейнека.
– Часа четыре. Этого, я считаю, вполне достаточно, – ответ Морозова.
– Нельзя писать четыре часа, так как цвета постоянно меняются. Такую картину надо писать не больше часа! – утверждал Дейнека.
– В облачную погоду я пишу целый день! – спорил с ним Александр Иванович.
Но карту «Буксир в затоне» отвергли, на выставку она не попала.
Хотя выставку в целом критика и пресса оценили хорошо. Так Мартирос Сарьян писал в газете «Советское искусство», «Молодой пейзажист А. Морозов – поэт природы. У него творческое восприятие мира, жизни, очень индивидуальная свежесть, внутренний вкус к живой натуре. У него есть свой взгляд на природу, самобытное отношение к ней. Образы родного пейзажа художественно убедительны».
Все последующее творчество Александра Ивановича Морозова было в основном посвящено Москве и Подмосковью. На Волгу, в Кинешму он уже не ездил. Но в 1979 году ему была присвоена Государственная премия РСФСР имени И.Е. Репина за серию пейзажей, в том числе и кинешемских. В 1992 году он получает звание Народного художника России. Жил Александр Иванович одиноко. Хотя знакомых у него было много. Лучшими его друзьями были такие «домочадцы», как кошки, собаки, вороны, которых он подбирал и выхаживал. Не случайно Сергей Тимофеевич Коненков подарил Морозову деревянную скульптуру с такой надписью: «Дорогу Александру Ивановичу – замечательному художнику, покровителю всего живого на земле – птиц, растений и всяких тварей. 1971 год».
Александр Иванович хорошо играл на гитаре, балалайке. Любил участвовать в «капустниках» московских художников на Масловке. Его артистические способности шутливо приветствовал Ираклий Андроников.
Следуя мудрому совету, полученному еще в юности от Л.В. Туржанского, Морозов крайне неохотно расставался со своими картинами, он их не продавал, не дарил. А в конце своей жизни все свое богатейшее творческое наследие – около 3 тысяч работ – подарил Ивановскому художественному музею. На их основе в 2001 году в Иванове был открыл мемориальный художественный Музей А.И. Морозова, что стало большим событием в художественной жизни России. Один из самых значительных разделов Музея составили картины, созданные в Кинешме.
мы в социальных сетях